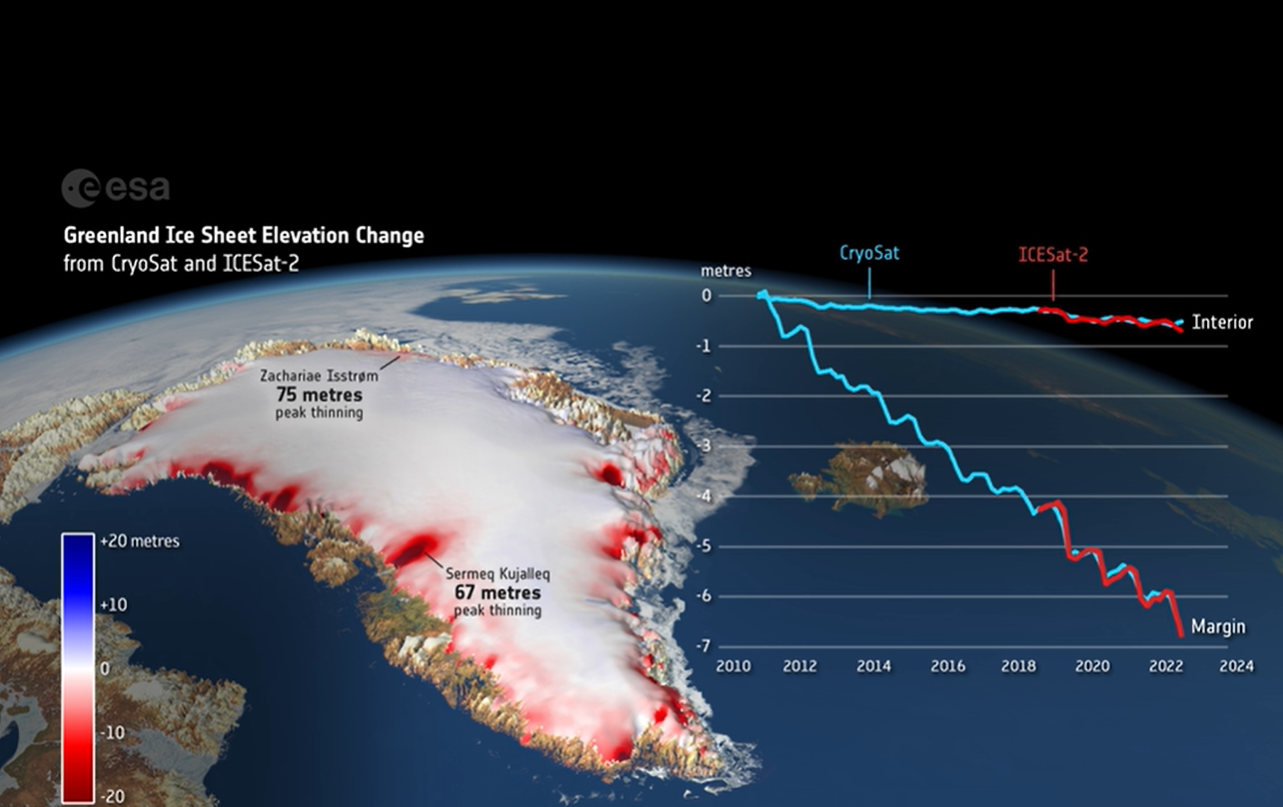Каким станет климат Казахстана в 21 веке? Как людям к этому адаптироваться? Не поздно ли мы спохватились? Почему развитие угольной отрасли – безнадежный актив? Что нужно изменить, чтобы экология в Караганде стала лучше? Об этом и многом другом изданию «Чем дышишь?» рассказывает старший советник программы “Экономическое развитие, устойчивое к изменению климата” (CRED) Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) ДАНА ЕРМОЛЁНОК.
– Как давно вы занимаетесь экологией и вопросами адаптации к изменению климата на Земле?
– Больше 20 лет. Я получила специальность, которая имела отношение к экологии, и с 2003 года работаю в этой области. А вопросами адаптации к изменению климата занимаюсь уже почти 15 лет, позже стала работать по теме декарбонизации – это снижение выбросов парниковых газов в разных отраслях.
– Переживаете за то, каким будет климат на планете?
– Многие вещи мы уже сейчас видим собственными глазами, удивляемся, сталкиваясь с природными явлениями, которых не видели раньше. Где-то стало меньше снега, где–то стало больше ливневых осадков или засухи. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно в нашей жизни. Если говорить про осознание этого как глобальной проблемы, то да, такого масштаба проблема перед людьми, наверное, раньше никогда не стояла. Мы столкнулись с пандемией в 2020 году, и почувствовали свою беззащитность перед чем–то, что происходит в природе, а мы не можем это контролировать. Столкнувшись с изменением климата, мы сейчас видим эти последствия. Но есть риск, что мы дойдем до такой точки, когда будут очень большие и необратимые изменения. И для того, чтобы они не происходили, в рамках Парижского соглашения* все страны взяли на себя определенные обязательства, определили цели, какой рост температуры мы не должны допустить. Был консенсус, что если мы сохранимся на уровне ниже 1,5 градусов повышения общемировой температуры к 2030 году, то наверное, мы можем рассчитывать на то, что как–то справимся с этими последствиями, сможем адаптироваться, снизим выбросы. Есть, правда, такие сценарии, при которых мы переходим этот предел, теряем определенные экосистемы, и ущерб становится настолько большим и необратимым, что это значительно поменяет жизнь всех людей, всего живого на планете.
– Какие последствия из–за изменения климата ожидаются в 21 веке в Казахстане?
– Для Казахстана есть много долгосрочных прогнозов. У нашего «Казгидромета» есть очень хорошие обзоры: что будет происходить с климатом, осадками, температурой для разных регионов. У нас ожидается повышение средней температуры, причем, быстрее, чем в среднем по миру. У нас изменится характер осадков, их объем, сезонность (такие вещи достаточно подробно описаны для разных климатических сценариев). Есть сценарии, где мы предпринимаем много действий в масштабах всей планеты и тогда можем контролировать это воздействие. Есть сценарий, где мы ведем бизнес как обычно, и тогда последствия будут гораздо серьезнее.
– Возможно ли предотвратить изменение климата?
– Есть много разных мнений – дошли мы или не дошли до той точки необратимости, когда мы можем еще что–то сделать. Именно поэтому есть цели, которые мы сейчас обсуждаем – кто, сколько, какой вклад может внести. Есть общепризнанное мнение, что эти действия не бессмысленны, у нас еще есть возможность затормозить этот процесс. Но даже если завтра мы прекратим выбрасывать все парниковые газы на свете, нам жить с теми изменениями, которые уже есть. К ним нужно приспосабливаться. Мы называем это адаптацией к изменению климата. Если мы ведем себя так, как мы вели себя последние несколько десятилетий, то шансов на благоприятный исход меньше.
– Что вы, ваша семья, близкие или коллеги делают для того, чтобы адаптироваться?
– Самое очевидное – мы все покупаем кондиционеры. Почему? Потому что летом становится жарче и жарче. У нас происходят волны тепла, когда несколько дней подряд очень жарко. И в таких городах как Астана, Караганда, в Центральной части Казахстана это может ощущаться в меньшей степени, но на юге Казахстана и южных странах это гораздо сильнее чувствуется. Есть также статистика Всемирной организации здравоохранения об увеличении смертности во время таких волн тепла. И, наверное, у всех было на слуху, когда такое случилось, например, в Пакистане, когда люди не могли выдерживать такую температуру. На уровне семьи мы можем адаптироваться, например, где и как мы отдыхаем. Зимой я дольше жду, когда у нас будет достаточно снега, чтобы можно было комфортно кататься на лыжах. Такое случалось и раньше. И здесь нужно понимать: есть колебания, которые происходят из года в год. Можно сказать: «Прошлая зима была очень холодная, было очень много снега, значит, никаких изменений нет». На самом деле они есть! И такая флуктуация будет происходить. Но есть долгосрочный тренд, который показывает, что у нас, например, больше осадков становится в зимнее время, а не в летнее (когда они нужны в вегетационный сезон!).
Думаю, люди, которые любят катание на горных лыжах, например, в Альпах, столкнулись с тем, что снега сейчас становится меньше, сезон укорачивается и, наверное, они должны адаптировать свои планы для отдыха.
А если мы говорим про большие сектора экономики, там воздействие и зависимость от доступности воды гораздо сильнее. Уже есть несколько аспектов, которые серьезно меняют работу в отраслях, и речь не только о сельском хозяйстве, где нужна вода для полива, чтобы был урожай. Например, на сектора энергетики или транспорта воздействуют те же экстремальные погодные явления, их частота и масштаб.
– Какие проблемы, связанные с климатическими изменениями, ожидают в ближайшее время Караганду?
– Думаю, общая проблема, с которой все мы будем сталкиваться (и в Карагандинской, и в других областях) – это увеличение частоты экстремальных погодных явлений. То есть, такие наводнения как в прошлом году по оценкам экспертов будут происходить чаще. С периодами засухи мы будем сталкиваться чаще, и они будут сильнее. Очень сложно сказать, когда именно это будет происходить, можно говорить только о частоте. И, конечно, нас тоже в первую очередь коснется общее повышение средней годовой температуры, как и во всем Казахстане. У нас происходят изменения ареалов обитания некоторых животных, смещение климатических зон с юга на север, увеличение засушливости в каких-то областях.
Если мы говорим о здоровье людей, есть данные об изменении ареалов инфекционных заболеваний. Это требует мониторинга – что происходит с конкретными возбудителями, в каких областях. Мы можем наблюдать это и в других странах. Заболевания, которые раньше встречалось только в отдельном регионе, теперь могут встречаться в более широкой географической зоне. Думаю, Карагандинская область в этом смысле не уникальна.
– В последние годы замечаю, что цветы, которые на лето выношу на балкон, не выдерживают уличной температуры и сгорают. Есть возможность защититься от такого?
– Это и называется адаптация к изменению климата. Это то, чем занимается наш проект – мы придумываем, что можно сделать. В случае с вашими цветами нужно адаптироваться – не выносить их на балкон, возможно, поменять виды цветов, выбрать более устойчивые к воздействию температуры или к отсутствию воды.
В нашем проекте мы рассчитывали экономический эффект разных адаптационных мер. Например, мы смотрели на сектор сельского хозяйства и сравнивали: если мы инвестируем деньги в инфраструктуру полива, ирригации (которая у нас традиционно на юге), то каким будет эффект на всю экономику Казахстана? Мы привлекали немецких экспертов, работаем с Институтом экономических исследований в Казахстане. Смотрели, что будет происходить в секторе энергетики. Например, одна из проблем, с которой сталкиваются многие страны – это сокращение объемов воды. Даже для Казахстана доступность воды в энергетике может стать проблемой, например, для охлаждения тепловых станций, может быть, в меньшем масштабе, чем для стран, которые сильно зависят от гидроэнергетики, но тем не менее…
– Среди карагандинцев бытует мнение, что мы – угольный регион, у нас много угля, не надо нам всех этих западных технологий, давайте будем и дальше использовать уголь, потому что нам это выгодно…
– Это очень распространенное мнение не только в Казахстане. Люди не понимают, как это повлияет прямо сейчас на их жизнь. Но мы уже говорили о рисках, которые связаны с изменением климата в Казахстане и во всем мире. Что будет, если мы не будем предпринимать никаких действий.
Весь энергопереход, который уже происходит глобально (в Казахстане в том числе), займет годы. И даже не смотря на то, что у нас угля еще, наверное, на 300 лет вперед или больше, нам все равно нужно будет менять свою энергетику. Все страны договорились, что мы будем что-то делать для общего блага. Изменения происходят очень наглядные, они касаются не только каких-то далеких стран. Даже в Казахстане сейчас быстрыми темпами росла доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и сейчас в общем энергобалансе их доля у нас составляет около 6%. Если вы поедете в Астану в районе Осакаровки вы увидите новые ветровые станции. В Сарани большая территория используется для производства солнечной энергии. И это будет постепенно развиваться.
Да, у нас есть уголь. Его использование сопряжено не только с выбросом парниковых газов, но и с загрязнением воздуха, то есть – с воздействием на здоровье. Все косвенные эффекты использования угля, к сожалению, не оцениваются, особенно – в деньгах. Какие потери несет вся экономика страны из-за того, что люди больше болеют, например, из-за грязного воздуха в городах, мы не знаем. Если сопоставить всю стоимость использования угля, включая эти косвенные расходы, возможно, это не самый дешевый вид топлива!
Казахстан является частью большого мира, мы неизбежно столкнемся с новыми правилами, с новым регулированием. Например, мы производим сталь и алюминий, на эту продукцию с 2024 года распространяется так называемый пограничный углеродный налог. То есть, мы экспортируем нашу продукцию в страны Европейского союза, которые являются ее потребителями. Поскольку у нас меры по сокращению парниковых газов еще недостаточны, а в Европейском союзе требования гораздо жестче и производители стали вынуждены инвестировать в новые технологии, то их продукция может быть неконкурентоспособной. Для того, чтобы защитить свою экономику и производителей (при этом соблюдая экологические, климатические стандарты), Европа будет облагать пограничным углеродным налогом импортеров. И если мы захотим импортировать нашу сталь в Евросоюз, на границе должна быть уплачена эта разница. То есть, на каждую тонну стали сверху на границе казахстанской стороне нужно будет заплатить налог, который останется в Европейском союзе (не у нас!). Поэтому нам проще и выгоднее вкладывать эти деньги здесь, в сокращение наших выбросов, в модернизацию нашей промышленности. Сейчас это касается ограниченного набора продукции, но список будет расширяться. В дальнейшем это будет касаться импорта не только в Европейский союз, но и в другие страны, даже в такие, которые сейчас сами очень много выбрасывают парниковых газов, например, в Китай, в Индию и др. И эти глобальные изменения неизбежно коснутся Карагандинского региона, который производит уголь, производит сталь. Мы не ожидаем, что это случится за 2 – 3 года или 5 – 6 лет. Это будет долгий процесс, который охватит несколько аспектов: и механизм стимулирования, и экономические меры, нормативно-правовую базу, финансирование мер по декарбонизации, переобучение людей, которые сейчас работают в секторах, связанных с углем или производством углеродоемкой продукции. Что должны все эти люди делать?
В нашем проекте, например, мы делали экономическое, отраслевое моделирование, чтобы посмотреть, какие пути декарбонизации наиболее выгодные для отраслей, где быстрее всего это можно сделать, куда эффективнее всего вложить деньги сейчас. И это практически всегда касается сектора энергетики, потому что то, какую энергию мы используем, влияет и на общий объем выбросов парниковых газов, и на стоимость конечного продукта. Если мы используем энергию от производства угля, наши выбросы на единицу продукции растут. Казахстан, например, в рейтинге выбросов парниковых газов на душу населения находится если не в первой десятке, то точно в первой двадцатке – мы производим очень много углерода на человека. И мы не хотим создавать безнадежные активы, вкладываясь сейчас в инфраструктуру, которая поддерживает угольный путь развития. Ведь эти деньги вкладываются на десятилетия вперед, а инфраструктура – это не та вещь, которую мы меняем каждые 5 лет. И если через 15 – 20 лет нужно будет бросить какие-то технологии или целые направления, то эти деньги будут потеряны. Не выгоднее ли сейчас вложить эти деньги в другие технологии, другие подходы, другие источники энергии для того, чтобы в долгосрочной перспективе мы были устойчивее, чтобы мы оставались конкурентоспособными и производили продукцию, которая востребована на внешних рынках.
– И как продвигается Казахстан по пути достижения углеродной нейтральности?
– Не могу сказать, что мы наблюдаем большие сдвиги в этом направлении, но сейчас идет активное обсуждение – как нам это сделать? Думаю, что самая важная часть – это участие бизнеса, государства, общественности в том, как мы можем договориться. Что для нас приемлемо, что мы можем сделать, в какие сроки, сколько денег нам это будет стоить, как мы можем обеспечить свой долгосрочный экономический рост, сокращая при этом выбросы парниковых газов. Казахстан обновляет документ, определяющий на национальном уровне наш вклад, идут межотраслевые обсуждения. Кроме того, мы как страна взяли на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это цель, когда мы должны свести к нулю выбрасываемые нами парниковые газы (снижаем выбросы максимально, а что не смогли совсем предотвратить, поглощаем нашими экосистемами или какими-то технологиями). И сейчас к этой стратегии разрабатывается дорожная карта, где для каждой отрасли эксперты, предприятия, ассоциации, НПО, министерства пытаются определить цели и индикаторы на ближайшие 5 – 10 лет и далее. Они, конечно же, в дальнейшем будут пересматриваться, поскольку это длительный процесс. Сложно сейчас сказать, где конкретно мы на этом пути находимся, потому что есть сектора, в которых очень сложно оценить состояние и даже поставить цели. Например, в секторе землепользования мне не попадались детальные аналитические обзоры – какие шаги и какие индикаторы в этой отрасли имеют смысл. Думаю, это должно быть сделано, потому что договориться, что делаем, нужно по каждому сектору. Нельзя поставить какую-то общую цель и сказать, что мы как-нибудь к ней придем.
– А вопросы адаптации к изменению климата нашим государством обсуждаются, или мы говорим только о достижении углеродной нейтральности?
– Мы движемся и в вопросах адаптации тоже. Во-первых, у нас в стратегии достижения углеродной нейтральности есть раздел по адаптации, где говорится, что климатические риски должны учитываться для всех отраслей экономики. Допустим, вы хотите посадить больше деревьев для того, чтобы поглощать больше углекислого газа. Если вы хотите сажать эти деревья в южном регионе, который требует полива, то достаточно ли у вас воды? Что вам говорят ваши долгосрочные модели? Будет ли доступна вода в этом регионе? Имеет ли смысл сажать быстрорастущие породы деревьев, какие-то плантации там создавать или нет? Или вы можете сделать что-то взамен?
Либо если вы хотите строить какую–то новую инфраструктуру, вы должны понимать, устойчива ли она к воздействию изменения климата – учащающихся экстремальных погодных явлений. Допустим, вы хотите построить новое водохранилище для того, чтобы сдерживать паводки и использовать эту воду для полива. Это адаптационная мера.
У отдельных мер может быть две стороны: с одной стороны они могут снижать выбросы парниковых газов, с другой – являться мерой по адаптации. Например, когда вы восстанавливаете экосистемы, они позволяют удерживать больше углерода в почве (митигационный эффект), при этом они могут позволять вам адаптироваться к новым условиям, допустим, если вы при этом укрепляете берега рек (вы защищаете себя от паводков, от эрозии почвы). Но есть, конечно, и чисто митигационные меры, например, когда вы на предприятии устанавливаете новое оборудование, которое позволяет выбрасывать меньше газов в атмосферу.
Идут обсуждения о национальном адаптационном плане Казахстана. Эта работа ведется Министерством экологии и природных ресурсов. И у нас в экологическом кодексе есть раздел по адаптации к изменению климата. Там довольно подробно описано, как должен этот процесс происходить. К сожалению, на практике он пока не реализуется. Например, там сказано, что каждая область Казахстана должна планировать процесс адаптации. Но знаете ли вы что-нибудь об адаптационном плане Карагандинской области? Понятно, что эти правила должны быть не просто написаны, но их надо исполнять. Во-первых, надо повышать уровень осведомленности людей – что делать, как это делать. Необходимо их обучать, предоставлять какую-то экспертную поддержку. Вот, например, правила по адаптации есть, но на уровне области необходимо их внедрять, поддерживать, понимать, как их финансировать.
Мы можем говорить, что мы и так тратим деньги на меры поддержки разных отраслей. Например, сельского хозяйства. Тогда адаптацией можно считать, если при выделении этих средств, при оценке ситуации мы учитываем влияние изменения климата – смотрим не только на то, что будет происходить с рынками сбыта сельхозпродукции или обучением фермеров, но и на то, что в долгосрочной перспективе будет происходить с климатом в этом регионе. Например, имеет ли смысл переходить на выращивание каких-то других культур? Имеет ли смысл поменять какие-то сельскохозяйственные технологии? И исходя из этого, адаптировать государственные программы поддержки, направлять в нужное русло инвестиции.
– Кто должен работать с населением, просвещать его в вопросе адаптации?
– Министерство экологии и природных ресурсов предпринимает очень много усилий для того, чтобы информация об изменения климата была доступна хотя бы на уровне других отраслевых министерств. Здесь важна его роль, как главного ответственного за эту сферу. Например, Министерство транспорта может не думать каждый день об изменении климата, но они должны понимать, что будет происходить из-за этого в их секторе. Но то, что наши национальные сообщения об изменении климата лежат на каком-то сайте не значит, что все их читают. Это также не значит, что только государственные органы могут и должны этим заниматься, у них часто нет возможностей, нет человеческих ресурсов, чтобы взять на себя большую просветительскую работу. Думаю, тут важна роль многих организаций – частного сектора, образовательных учреждений. Это такой многоуровневый процесс, который должен происходить усилиями большого числа людей из разных сфер.
– Какая климатическая работа сейчас самая важная? Куда бы вы хотели приложить свои силы, чтобы делать мир лучше?
– Адаптация – это не набор мер, это процесс. И он для каждого конкретного места может быть свой. Адаптация города Караганды, центрального парка, конкретного села, речного бассейна будет иметь свои особенности. Мы не можем сказать, вот у нас есть список мер, мы можем из них выбрать самые важные и классные, и если мы их будем делать, то всё будет хорошо. Нужно уметь анализировать свою ситуацию, оценивать свои риски и понимать, что подойдет именно вам. В этом процессе участвуют разные стороны, можно научиться совместно принимать решения.
В проекте CRED мы проводим экономическую оценку – что будет происходить с экономикой при различных сценариях изменения климата. Делаем экономический расчет – какие адаптационные меры, с точки зрения экономики, наиболее выгодные. Мы выбрали это себе как задачу. И внутри проекта рассуждаем, какие меры адаптации мы хотели бы просчитать? Это довольно интересный процесс. Мы разговариваем с широким кругом людей, экспертов, и кто-то считает, что нужно приоритетным образом адаптировать сектор животноводства, кто-то хочет посмотреть на производство сельскохозяйственных культур. Есть люди, которые считают, что важно смотреть на инфраструктуру, потому что она страдает в первую очередь от экстремальных погодных явлений – наводнений, ураганного ветра. Мнений очень много, я не могу выбрать какое-то одно, поэтому нам нужен такой диалог с разными сторонами. Мне сейчас интересно заниматься вопросами просвещения, информированности населения. Почему это нужно делать? Потому что это, наверное, первый шаг к тому, чтобы люди были готовы прикладывать какие-то усилия. Мне интересно смотреть на какие-то пилотные меры. Например, в нашей модели по подсчету воздействия изменения климата мы смотрели на меры по повышению энергоэффективности в зданиях, какой от них может быть общеэкономический эффект. Если мы повышаем энергоэффективность здания, теплоизолируем стены, меняем окна, крыши, ставим приборы учета, какой будет эффект? Мы сможем снизить энергопотребление? Это значит, что мы будем меньше выбрасывать парниковых газов. Если сделать это в масштабах всего города, наверное, это имело бы очень большой эффект.
С другой стороны, повышение энергоэффективности – это и адаптационная мера, потому что в жаркую погоду теплоизолированное здание лучше сохраняет комфортные условия для людей.
– Если бы от вас это зависело, что бы вы поменяли в экологии Караганды?
– Я бы подумала про качество воздуха. Потому что зимой, когда штиль и нет ветра, практически невозможно дышать. В прямом смысле мы можем видеть тот воздух, которым мы дышим. Мы зависим от угля, жжем его и дышим этими выбросами.
Парниковые газы мы не видим, они не ядовиты, это не загрязнение, не то, что мы можем ощутить прямо здесь и сейчас. Но именно парниковые газы воздействуют на атмосферу Земли в целом.
Если бы мы могли решить проблему отопления зимой, когда увеличивается потребление энергии (этот период длится у нас 6 месяцев), и перешли на более чистые источники энергии, думаю, мы бы все ощутили изменение качества жизни в нашем городе.
Беседовала Алёна ПАНКОВА